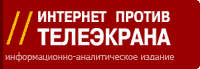Мы публикуем полную расшифровку лекции Андрея Ланькова (Associated Professor университета Кукмин (Сеул))
Итак, тема сегодняшнего разговора – это модернизация в Восточной Азии, после 1945 года.
Наверное, разговор этот надо начать с одного вопроса: ”А что такое Восточная Азия?” Ну, в России, например, существует довольно странное отношение к этому термину. Корейцы всегда искренне удивляются, когда узнают, что с точки зрения русских их страна находится в Юго-Восточной Азии. Это географическое открытие вызывает у них ухмылки, потому, что это примерно как сказать русскому, что «Россия – это страна в Северной Азии». Сами-то корейцы считают, что их страна находится в Северо-Восточной Азии, а Юго-Восточная Азия это где-то далеко от них, это пять часов на самолете. Это Вьетнам, Таиланд и т. д.
Но термин “Восточная Азия”, который я здесь употребляю, не столько географический, сколько культурный. Восточная Азия – это те страны, в которых на протяжении двух тысяч лет, с начала нашей эры и до конца XIX века, государственным языком, языком администрации и высокой культуры являлся древнекитайский. То есть ни в Корее, ни во Вьетнаме, ни в Японии (хотя в Японии это правило менее строго выдерживалось) не была возможна такая ситуация: чиновник составляет официальный документ, скажем, для императора, короля на родном языке, например, на корейском. Это примерно так, как сейчас отправить Медведеву докладную с матерными выражениями. То есть, в принципе, он её поймёт, но это, видимо, будет последняя докладная, написанная данным чиновником. Весь или почти весь документооборот в этих странах был, естественно, на древнекитайском. Школы там были реально предназначены не для изучения собственной словесности. Родной язык обычно игнорировался до конца XIX века (в Японии не совсем так, правда – но и там государственная документация была в основном на китайском). Главное в школах – это изучение древнекитайского языка, а также древнекитайского литературного и философского канона. Для региона было характерно гигантское китайское влияние на все области жизни. Государственный аппарат, общественные институты строились по китайскому образцу или, по меньшей мере, под такой образец внешне подгонялись. Важное обстоятельство – огромное количество китайских заимствований в языках региона. Достаточно сказать, что слова древнекитайского происхождения составляют примерно 70-80 % текста в современном вьетнамском, корейском или японском газетном тексте.
1945 год сегодня взят здесь как стартовая точка, но попытки модернизировать эту территорию, эти страны начались существенно раньше. Первым и очень успешным примером модернизации стала Япония. Однако о Японии мы будем говорить сегодня мало, потому что к 1945 году Япония очень обособилась от Восточной Азии, она во многом вышла из этого ареала. Кроме того, к 1945 г. в Японии ответ на основные вопросы был найден, страна выбрала свой путь и с тех пор идет по нему достаточно последовательно. Так что все проблемы, о которых мы будем говорить, относятся к остальным государствам региона. Этих государств три – Китай, Корея и Вьетнам. Показательно, что они все без исключения испытали политический раскол по очень похожему сценарию. Все три страны разделились, в основном, из-за вопроса, как проводить модернизацию – по-социалистически или по-капиталистически. Именно из-за этого вопроса они воевали внутри себя, вели долгие и очень жестокие гражданские войны. Главный вопрос, повторяю, стоял так: как строить современное государство, как проводить модернизацию.
Тут существует одна очень важная особенность: дело в том, что в Восточной Азии с конца 1940-х не было особых разногласий относительно конечной цели, хотя были серьёзнейшие разногласия относительно методов её достижения. И политические, и интеллектуальные элиты Восточной Азии конца сороковых отлично знали, что им нужно. Им нужно было современное индустриальное общество. Когда они думали о том Китае, той Корее, том Вьетнаме, которые хотели увидеть в будущем, то они думали о железных дорогах, по котором несутся скоростные паровозы, об исполинских металлургических комбинатах, трубы которых извергают в небеса клубы дыма (с каким восторгом они тогда писали о клубах дыма, тогда об экологии ведь еще никто не думал!).
Любопытная особенность региона – практически полное отсутствие фундаментализма. Если мы посмотрим на Ближний Восток, на Средний Восток, фундаментализм оставался и поныне остается там влиятельным. Это такое направление общественной мысли, которое на вопрос «как сделать идеальное общество?» отвечает примерно так: «Надо взять древние каноны и жить по заветам старины, так, как прадеды наших прадедов жили, максимально точно это прошлое восстановить, и будет нам всем счастье». Такие мысли существовали и в Китае, но только в XIX веке, а последние их носители, последние «конфуцианские традиционалисты-фундаменталисты» были сметены с политической сцены к 1920-м годам. К 1945-му году уже никто не думал, что решение всех проблем региона может быть достигнуто тщательным штудированием Конфуция и Мэн-цзы и возвращением к некоей идеализированной конфуцианской старине. К тому времени все соглашались, что надо строить индустриальное общество, которое будет более или менее таким же, как на Западе, а может быть, и лучше. Споры шли о методах построения такого общества, а не о том, нужно ли строить его вообще.
Однако, «конфуцианский ареал», Восточная Азия в середине 1940-х годов представляла собой печальное зрелище. В начале 1960-х годов Южная Корея по доходу на душу населения уступала Папуа-Новой Гвинее и Нигерии, а Вьетнаму было тогда очень далеко до Шри-Ланки. Можете посмотреть таблицу ВВП на душу населения, на основании известных таблиц Мэдисона, данные в долларах 1990-го года. Видно, что Тайвань и Корея, которые были японскими колониями, находились в несколько лучшем – но все равно сложном – положении, а вот во Вьетнаме и в Китае вообще сохранялся уровень ВВП, характерный для доиндустриального общества, который Мэдисон оценивает в 400-450 долларов.
ВВП на душу населения в странах Восточной Азии
1940 (или ближайший) | 1970 | 1990 | 2006 | |
Китай | 560 | 780 | 1870 | 6050 |
Тайвань | 1130 | 2540 | 9950 | 19860 |
Вьетнам | 600 | 740 | 1025 | 2630 |
Корея Юг | 1600 | 2170 | 8700 | 18350 |
Япония | 2870 | 9710 | 18800 | 22460 |
(1990 International Geary-Khamis dollars), расчеты Агнуса Мэддисона
Рост ВВП в странах Восточной Азии, 1990-2006
абсолютный | На душу населения | |
Китай | 8,23% | 7,33% |
Тайвань | 5,09% | 4,33% |
Вьетнам | 7,31% | 5,89% |
Корея Юг | 5,39% | 4,66% |
Япония | 1,31% | 1,12% |
Западная Европа | 2,08% | 1,75% |
Мир в целом | 3,47% | 2,12% |
(1990 International Geary-Khamis dollars), расчеты Агнуса Мэддисона
Если посмотреть на Китай 1940-х годов, то значительная часть населения Китая и не подозревала о существовании современного мира. На тот момент 87% населения Китая жило в деревнях, и значительная часть крестьян жила так же, как жили китайские крестьяне в эпоху Тан, тысячу с лишним лет назад. Для них сообщение о революции и победе коммунистов означало примерно следующее: «Раньше у нас в Китае был император династии Цин, потом случилась смута, а теперь у нас новый император, его вроде зовут «председательмао» или как-то так». Примерно так значительная часть населения Китая воспринимала все, что произошло в 1949-м году. Однако не эти люди решали судьбу страны, ее определяла новая элита, которая и в Китае, и в других странах региона возникает с конца XIX века под сильным западным влиянием и обычно получает образование западного образца. В каждой стране своя история, откуда появляется новая элита. Однако эти новые элиты были едины в том, что модернизация нужна. Повторяю: все, кто хоть что-то значил, хотели стремительных паровозов и исполинских комбинатов.
Выбор стоял между двумя альтернативными проектами модернизации, причем изначально оба были сориентированы на иностранные образцы. Один – это, условно говоря, коммунистический проект, хотя в своем конкретном исполнении он оказался далек от коммунизма в советском или восточноевропейском варианте. Другой – это, условно говоря, западнический рыночно-либерально-демократический проект, в котором, однако и с либерализмом, и с демократией на практике было крайне плохо вплоть до конца 1980-х годов. То есть попытки импортировать эти проекты на восточноазиатскую почву привели к тому, что в действительности там выросло нечто, весьма и весьма не похожее на изначальные иностранные прототипы. Но всё это произошло позже, а в конце 1940-х годов сторонники, скажем, построения «государства как в СССР», отчаянно боролись со сторонниками построения, условно говоря, «государства как в США». Именно эти две страны служили образцами, с которых, в общем, во многом копировались и политические, и экономические институты, – хотя когда их скопировали, они сразу же начали меняться.
Таким образом, в конце 1940-х годов произошел первый раскол. В результате мы можем сейчас, рассматривая историю модернизации Восточной Азии, говорить о двух волнах модернизации. Во-первых – это «диктатуры развития» первой волны, то есть страны, которые изначально выбрали вот этот якобы либеральный и якобы демократический, но на деле рыночно-капиталистический путь развития (впрочем, надо помнить, что это был отнюдь не чистый рыночный капитализм, там хватало дирижизма). Эти страны, конечно, – Тайвань и Южная Корея. Отчасти туда относится и Южный Вьетнам, но у Южного Вьетнама ничего не вышло, там всё пошло комом. В это же самое время континентальный Китай, Северный Вьетнам и Северная Корея пошли по советскому пути и попытались построить социалистическое общество по ленинско-сталинским рецептам, хотя и там тоже стало получаться совсем не так, как хотелось.
Первая волна – это авторитарные диктатуры, это режимы, которые можно называть «диктатурами развития». Тайвань и Южная Корея. Их экономический рост начинается на рубеже пятидесятых и шестидесятых, а к середине 1960-х они входят в период совершенно бешеного экономического роста. Тогда они лидируют в мире по темпам экономического роста. К концу 1980-х они достигают уровня среднеразвитых стран, и тогда там происходят политические реформы, меняется политическая структура. Авторитарные режимы в Сеуле и Тайбэе свергаются, после чего эти страны превращаются в политические демократии. Происходит это около 1990 г.
Однако примерно лет за десять до этого, в начале восьмидесятых, страны, которые сначала пошли по коммунистическому пути, совершают поворот на 180 градусов – сначала, около 1980-го года, этот поворот совершает континентальный Китай, вслед за ним, с небольшим опозданием, – Вьетнам. Сохраняя для поддержания стабильности или для легитимизации власти коммунистическую риторику, эти страны начинают строить рыночно-капиталистическую экономику. Строить её ещё более успешно, чем диктатуры развития первой волны. При этом они, как ни парадоксально, несмотря на всю свою как бы левую риторику, куда меньше думают о вопросах социального равенства, чем «диктатуры развития» первой волны. То есть это реально куда более жёсткий капитализм, пусть и завернутый вот в такое красное знамя, которое никто всерьёз не воспринимает уже давно.
Таким образом, можно сказать, что в модернизации Восточной Азии было два этапа, две волны, которые перекрещиваются, накладываются друг на друга: первая волна примерно с 1950 по 1990 г., а вторая примерно с 1980-го и по 2010-й, и так я думаю, еще не одно десятилетие может быть впереди.
Начнем разговор с первой волны авторитарных модернизаторов. И Южная Корея, и Тайвань – страны, по меркам региона, маленькие. Сейчас численность населения Южной Кореи 50 миллионов человек – ничто по сравнению с Китаем, где население примерно 1 миллиард 350 миллионов. Население Тайваня тоже чуть больше 20 млн человек. Это небольшие страны, и достаточно бедные на момент провозглашения независимости. То есть тогда это были страны более успешные, чем Китай, но всё равно очень бедные по меркам развитого мира. Для людей, которые оказались там у власти в пятидесятые и шестидесятые годы, задача стояла примерно так: нам надо всё устроить из ничего. Дело в том, что у этих стран практически не было природных ресурсов. В Южной Корее, например, есть небольшое количество некачественного угля, молибден, который исчерпали перед началом экономического рывка, – и это, в общем, всё. На Тайване дела обстоят примерно также. Каким образом добиться стабильного экономического роста в условиях страны, начисто лишённой природных ресурсов, крайне бедной, не имеющей достаточного количества образованных людей? Там было очень неплохо с начальным образованием, так как японцы активно вкладывались в начальное образование и в Корее, и на Тайване, но вот людей с высшим образованием – инженеров, врачей, технических специалистов – катастрофически не хватало. В этих условиях было принято единственно возможное решение, которое потом скопировали и Вьетнам, и континентальный Китай – ставка была сделана на дешёвую и качественную рабочую силу.
Логика тайваньского и корейского руководства в 1950-70-е годы была примерно такова: «Поскольку в стране нашей ничего нет, давайте из страны сделаем огромную фабрику. Ведь у нас в стране есть один ресурс – рабочие руки, и давайте добьемся максимума, используя именно этот единственный наш ресурс». Из-за границы ввозилось сырьё и технологии. Сырьё перерабатывались, из него делали готовую продукцию по иностранным технологиям, а потом готовая продукция отправлялась на экспорт. Основой экономического рывка стала экспортоориентированная экономика.
Немалую роль сыграла и американская поддержка. В условиях Холодной войны стабильность этого региона была для Вашингтона очень важна, так что денег давали довольно много, и в порядке подарков-грантов, и в долг.
На этом этапе развития у диктатур развития было одно очень важное преимущество: традиционно высокая трудовая культура, которая существует в Восточной Азии. Конечно, это не генетика, а культура, которая формировалась тысячелетиями, она является результатом особенностей традиционного сельского хозяйства этого региона.
С экономической точки зрения конфуцианская цивилизация – это цивилизация сельскохозяйственная, цивилизация риса. Китай – это империя рисовых полей. При этом следует учесть, что рис – культура специфическая. В России, стране ржи и пшеницы, традиционная крестьянская семья являлась самодостаточной единицей, требовались гигантские усилия, авральный труд в страду, но в остальное время можно было расслабиться. На Дальнем Востоке, в условиях рисового земледелия, одна семья не могла вообще ничего. Для того чтобы обеспечить стабильные урожаи, необходимо было сначала создать ирригационную систему. Для выращивания заливного риса необходимо тщательно выровненное поле, водохранилище, в которое нужно вовремя подать воду, а потом в идеальные агротехнические сроки нужно открыть заслонки, пустить воду на огромную систему полей, связанных друг с другом сложным образом, сообщающихся через каналы. Всё это надо было организовать: договориться о том, как эту воду подать в водохранилище, как и когда воду спускать. Вдобавок, всё это нужно делать быстро и четко. Как минимум, в масштабе деревни, но часто такая система охватывала и куда большие пространства. Высадка риса – это не восточноевропейский сеятель, который идет себе по полю и разбрасывает зерно, это высадка рассады. Можно рис сеять и зерном, но при высадке рассадой заметно больше урожайность. Работа идёт по колено в болотной жиже, температура воздуха 25-30 градусов, при этом нужно максимально быстро высадить маленькие кустики руками. Пытаются сейчас это делать машиной, но машина толком это делать не умеет, сотня крестьян делает это лучше. Важный фактор – высокая плотность населения, которая там существовала последние полторы тысячи лет. Эту плотность можно поддерживать только в том случае, если выращивать рис, потому что по отдаче калорий с гектара рис является самой эффективной сельскохозяйственной зерновой культурой. То есть выбора нет. Чтобы на побережье Тихого Океана иметь население в 300 или 400 млн. человек, а столько людей там примерно жило к концу традиционной эпохи, кормить их надо рисом. Ничто другое их не прокормит. Кстати сказать, мясо в Восточной Азии простые люди вообще не ели или ели очень редко. Свинину – по большим праздникам, а говядину – только богачи, и то не везде. Скот труден в выращивании, он дефицитен, за ним много ухода, он ест траву, вместо которой можно что-нибудь более калорийное выращивать. Поэтому скот был там тягловой силой, его резать – это как вполне исправный трактор отправлять на металлолом.
Результатом стала высочайшая интенсивность труда, при этом труда организованного и группового, ведь тысячелетиями люди в Восточной Азии вынуждены работать в коллективах. Кроме того, в Восточной Азии сформировалось особое отношение к государству. Для русского и, шире, европейского, крестьянина государство – это все-таки паразит: приезжают, налоги требуют, а что взамен дают – непонятно. Русский крестьянин хоть защитника от кочевых набегов в государстве видел, а у крестьянина западноевропейского и такого утешения не было. Отношение восточноазиатское – другое, там есть восприятие государства, во-первых, как социальной ценности, силы, которая обеспечивает стабильность в стране, и, во-вторых, восприятие государства как организатора экономической жизни. Опыт тысячелетий показал, что чиновник иногда ворует, иногда говорит глупости, кто бы спорил, но нужно всё равно делать так, как сказал чиновник, потому что именно государство могло обеспечивать стабильность, без которых работа этих ирригационных систем невозможна, и именно государство выступало в качестве организатора необходимых для этой экономики проектов. Отсюда проистекает и не всегда понятная для нас идеализация чиновника в странах Восточной Азии, в культуре этих стран чиновник – это обычно позитивная фигура.
Известно, что в Европе и Америке на ранних этапах развития капитализма требовалось немало усилий для того, чтобы переучить вчерашних крестьян, чтобы научить их работать в соответствии с новыми для них требованиями индустриального производства, работать от звонка до звонка, четко соблюдая дисциплину, группами. В Восточной Азии вопроса переделки крестьянства не стояло, вопрос этот был там решён эдак полторы тысячи лет назад. Именно на это была сделана ставка: сначала в Корее и на Тайване, позже – по всему региону.
Не надо думать, что тайваньская и корейская стратегия были идентичны. У них были определённые различия, но объединяли их опора на трудовые ресурсы, и ставка на развитие экспортоориентированной промышленности. Важно, что эти страны в тот момент оставались преимущественно крестьянскими, с тремя четвертями населения, которое ещё жило на земле. И вот этот резерв рабочей силы, малоквалифицированной, но социально готовой к работе в новых условиях, сыграл большую, решающую роль и в Корее, и на Тайване.
Как уже говорилось, были определенные различия: тайваньский подход более классический рыночный, а в Южной Корее у власти оказался бывший японский офицер Пан Чжон Хи. Свои уроки политграмоты он усвоил в 1930-е годы, в годы службы в японской армии. Ему импонировала экономическая модель Японской империи того времени – с дирижизмом, с сильным государственным вмешательством, с крупными концернами. Если на Тайване давали большую свободу рынку, то в Южной Корее людей назначали олигархами, а государство прямо и косвенно вкладывалось в якобы «частные» национальные проекты. Сейчас в Южной Корее есть мощнейшее автомобилестроение, судостроение, сейчас страна занимает первое-второе место в мире по тоннажу кораблей, спускаемых на воду (а по машинам – пятое-шестое место в мире Южная Корея). Ничего подобного на Тайване нет. Эти отрасли, где требуются огромные начальные инвестиции, очень трудно было бы запустить в относительно маленькой стране без прямой государственной помощи и поддержки. Такая поддержка была в Корее, но не на Тайване.
И в Южной Корее, и на Тайване на первом этапе, то есть в шестидесятые, ставка была сделана в основном на лёгкую промышленность: одежда, ткани; костюмы шили, парики, мягкую игрушку. Это отрасли, где можно использовать неквалифицированную рабочую силу: девушки из деревни приходили и работали 14 часов за три миски риса. Для нас (и для их внучек) это звучит страшно, но девушки-то были довольны в своём большинстве (не все, конечно, далеко не все): они имели три полных миски настоящего вкусного белого риса, при этом работали в закрытом помещении, с отоплением. Их подруги, оставшиеся в селе, им завидовали. Хотя не надо идеализировать картину, были у этого и чёрные стороны, но об этом чуть позже.
В 1965 году, например, 40% всего корейского экспорта составляли одежда и текстильные изделия. Такая же картина и на Тайване. В 1970-е годы происходит сдвиг, появляется капитал, опыт, инфраструктура, и, соответственно, возможность заниматься тяжелой промышленностью.
Если говорить о Южной Корее, в начале шестидесятых президент Пак слетал в Западную Германию и увидел там, во-первых, автобаны, а во-вторых, что горы в Германии зелёные. Кто был в Южной Корее, тот знает, что это страна, где все покрыто лесом. Где люди не живут, и где они землю не пашут – там стоит лес. Мало кто знает, однако, что так было не всегда, что лес этот новый, его высадили в шестидесятые-семидесятые, а раньше там не было леса, были там голые горы, как и сейчас в Северной Корее. Так вот, в начале шестидесятых Пак Чжон Хи приехал и сказал, что, мол, давайте высаживать деревья и, конечно же, строить у нас автобаны – в качестве транспортной инфраструктуры для будущей индустриальной Кореи.
А режим тогда в Южной Корее был, конечно, диктаторский, но мягкий, оппозиция слегка пищит, может марш провести в столице иногда, газета там какая-нибудь выходит ехидно-антиправительственая, ну, радиостанция, может быть, даже, но не телевидение. Вот оппозиция и начала тогда говорить, что, мол, рехнулось наше правительство, тратит народные деньги, в нашей стране 30 тыс. машин в столице, 100 тысяч по стране. Ну зачем нам строить скоростные дороги, кто на них будет ездить, воловьи упряжки? Теперь стало ясно, что правительство оказалось право.
Тогда же начинается строительство новой инфрастуктуры, за государственный счёт. В конце 1960-х годов строится Пхоханский металлургический комбинат, один из крупнейших в Азии, на который Всемирный Банк денег не дал, заявив, что строительство металлургического комбината в безнадежно отсталой Южной Корее – это безумие и авантюра. Сейчас один из мировых лидеров в черной металлургии. Не было бы Пхоханского комбината, не было бы ни автомобилестроения, ни судостроения корейского.
Вот такая хорошая картинка, благостная. Но это не так, на деле всё было весьма сложно. И лидеры оппозиции падали случайно с небольших пригорков почему-то насмерть, и забастовки давили там со страшной силой, и с правами человека плохо было. Это были диктатуры. По сравнению с их соседями, по сравнению с тем, что устраивали Мао и Ким Ир Сен в эти самые годы, это было воплощением мягкости и гуманизма. Но по нормальным меркам это была диктатура. Более того, сама идея использования дешёвой рабочей силы предусматривала весьма бесцеремонное подавление рабочего движения. То есть создавались проправительственные профсоюзы, которые, как в советские времена вполне справедливо сказали бы у нас, «отвлекали внимание рабочего класса от его насущных задач», и велась беспощадная борьба с любыми попытками рабочих создать реальные профсоюзы и защищать свои интересы. Там был подход вполне по Сергею Михалкову: «В сердцах сожмешь кулак, // Прибавку требовать пойдёшь, // Поднимешь красный флаг, // Жандармы схватят, изобьют, // Узнаешь, где острог». То есть это тоже часть авторитарно-модернизаторского пакета.
И сейчас, когда на Тайване и особенно в Корее думают об этом своём недавнем прошлом, заметно противоречие между нами и ними, между наблюдателями внутренними и наблюдателями внешними. Мы-то смотрим снаружи, и нам кажется, как у них было здорово. А с другой стороны, у самих корейцев или тайваньцев отношение к своему недавнему прошлому куда как амбивалентнее. Любопытно бывает мне наблюдать взаимодействие между русскими и южнокорейскими интеллигентами. Сидят южнокорейские интеллигенты, которые в молодости ходили в подпольные кружки, штудировали Маркса (а то и Ким Ир Сена), которые нелегально читали роман М. Горького “Мать” (это был такой хит подполья, его нелегально издавали в 80-е, активно читали), учили наизусть запрещённого Маяковского. А напротив – русские, которые в это время восхищались экономической статистикой Южной Кореи, темпами роста «азиатских тигров» – ну, и Софью Власьевну ругали, Солженицына читали, «голоса» слушали. И обе стороны удивляются при контактах. Южнокорейцы с удивлением видят, что ни малейшего восторга перед романом “Мать” у русских интеллигентов не наблюдается, что никаких симпатий к героическим забастовщикам у них тоже нет, а русские интеллигенты удивляются, когда видят, как кривятся при упоминании имени Пак Чжон Хи их корейские собеседники. Потому что для значительной части южнокорейского населения, в первую очередь – для интеллигенции младшего и среднего возраста, Пак Чжон Хи не столько спаситель страны и отец экономического чуда, сколько палач демократии и человек, который надолго отсрочил наступление прекрасных, новых свободных дней.
Правда, с этими «диктатурами развития» произошла интересная история. Дело в том, что любая по-настоящему успешная «диктатура развития» совершает медленное политическое самоубийство (если, конечно, она успешна и достигает своей главной цели – этого самого развития). Потому что по мере экономического развития неизбежно формируется средний класс. Неизбежно растёт уровень образования. Рано или поздно в обществе формируются силы, которые вовсе не готовы согласиться с авторитарным стилем управления; появляются люди, которые хотят участия в политической жизни, которых раздражает примитивная и лживая официальная пропаганда, и люди, которые не помнят того хаоса и нищеты, которые существовали за несколько десятилетий до этого. И на Тайване, и в Южной Корее это произошло практически синхронно, в восьмидесятые. Условно говоря, люди двадцатых и тридцатых годов рождения принимали диктатуру Пака в Корее, диктатуру Чан Кай-ши и его сына-преемника Цзян Цзянь-го на Тайване (любопытно, что отец тайваньского экономического чуда был председателем подмосковного колхоза, а потом многотиражкой на «Уралмаше» руководил, и жена у него была русской, не так давно умерла, вот такая была у Цзян Цзянь-го интересная биография). Так вот, люди, родившиеся в двадцатые и тридцатые, принимали эти режимы, отлично видя и их фальшь, и их ложь. Потому что они помнили, что такое настоящий голод, и что такое настоящий хаос. А вот люди, родившиеся в пятидесятые и особенно в шестидесятые, принять эти авторитарные режимы уже не могли. Рассказы о вкусе варенной в голодуху сосновой коры, рассказы о северокорейских танках, которые ездят по улицам южнокорейских городов, рассказы о панической эвакуации через тайваньский пролив были для них папиными историями какими-то, уже поднадоевшими. И они, выросшие в годы бурного роста, воспринимают уже вот эту новую жизнь, жизнь с определенным уровнем дохода, комфорта, как нечто нормальное. Рекордный экономический рост им казался естественным состоянием. Им было недостаточно одного только порядка на улицах и чашки риса с мясом. Они хотели большего, в том числе гражданских свобод и политических прав. И честной прессы. И много чего ещё.
Поэтому в 80-е годы и на Тайване и в Корее развертывается движение за демократизацию. Основа движения – новый средний класс, его молодая часть, и студенчество, то есть как раз те люди, о которых я только что сказал. К концу восьмидесятых оно побеждает, и там проходят политические реформы. Авторитарные режимы уходят из власти, эти страны превращаются в такие классические либеральные демократии. Ну вот, казалось бы, полная победа, полный успех. Всё хорошо, всё замечательно. И в это время эти два песика, две маленькие таксы Восточной Азии видят, что в действие вступили новые силы, что начали у нас уже бегать слоны с бегемотами, то есть Китай и Вьетнам.
О том, что происходило в Китае между 1949 и 1976 гг., я особо рассказывать не буду, за недостатком времени. Похожие вещи происходили тогда и в Северной Корее и во Вьетнаме, которые у нас обычно как-то исключают из этого списка, а зря – Северный Вьетнам из себя представлял режим, весьма похожий по многим параметрам на диктатуру Мао в Китае. Они там начали строить то, что им казалось советской моделью, начали активно использовать вроде бы советские образцы, но быстро от этих образцов отошли, в том числе и потому, что даже товарищ Сталин им показался недостаточно радикальным. На это тоже были причины, связанные с местными идеологическими особенностями. Для системы, которую я описывал, свойственно некое обожествление государства – с одной стороны, и довольны сильные уравнительные эгалитарные тенденции – с другой. В результате, например, коллективизация в Корее и в Северном Вьетнаме сводилось не только к коллективизации основных полей, но и к почти полному изведению приусадебных участков. В Китае, например, в ходе создания «народных коммун» в конце 50-х годов из крестьянских домов изъяли даже кухонную посуду, решив, что крестьяне не могут, не должны дома готовить, что им необходимо обязательно питаться в общественных столовых. Все сдавалось в общественный фонд, и потом оттуда выдавалась кормёжка какая-то. Ну, дальше всё вообще кончилось «культурной революцией» и хунвэйбиновским безумием. Все эти события сами по себе интересны, очень интересны, я сам ими, в основном, и занимаюсь, но сейчас рассказывать о них просто нет времени. С исторической точки зрения, это оказалось тупиковым вариантом. Важно, что к концу 1970-х годов ситуация там меняется. Конечно, поворотом там стала смерть Мао Цзэдуна в 1976 году, хотя некоторые тенденции набирали силу и раньше.
Когда мы говорили о коммунистах Восточной Азии, надо было упомянуть об одной их очень интересной особенности. Коммунизм в Восточной Азии начал распространяться только около 1920 г. и с самого начала был во многом учением националистическим. В последние годы своей жизни Ким Ир Сен сказал о себе, что я, мол, не только коммунист, но и националист. Никакой великой тайны он таким образом не открыл. Это было все и всем хорошо известно (в том числе и в Москве, на Старой Площади). Коммунизм восточноазиатский, действительно, сильно отличался от европейского – в том числе и по вот по какому параметру. На Западе, в Европе или в России люди вступали в коммунистическую партию в первую очередь потому, что их беспокоили социальные проблемы, они думали о социальном неравенстве. Думал, условно говоря, французский коммунист образца 1925 года: «Вот мы изведём заводчиков, и прочих рантье и освободим страдающий рабочий класс». Ну, примерно так же думал и российский социал-демократ где-нибудь в 1910 году. То есть главная мотивация – это мотивация социальная. А в Восточной Азии в двадцатые и тридцатые годы ситуация была, во многом, другой: коммунизм там воспринимался как способ решения национально-государственных проблем, как ещё одна стратегия модернизации, как способ построения эффективного и мощного национального государства. В компартию люди шли не только потому, что они видели внутренние проблемы общества и социальные противоречия, но и потому, что они считали: коммунизм в его советском варианте – это путь к ускоренному решению проблем их нации и их государства. «Сталинские пятилетки», ускоренная индустриализация СССР – всё это производило впечатление. Кроме того, классическая либеральная модель была в те времена скомпрометирована своей связью с империализмом, колониализмом, в крайней своей форме – даже с социал-дарвинизмом. А тут коммунизм с его мощным антиимпериалистическим пафосом, с обещаниями скорейшей модернизацией в кратчайшие сроки, с обещаниями превращения в суперсовременное государство.
Так вот, и Хо Ши Мин, и Ким Ир Сен, и Мао Цзэдун, и сотни тысяч иных людей стали коммунистами не только для того, чтобы дать землю крестьянину, а ещё и потому, что верили: коммунизм – это путь к решению национальных проблем Китая или Вьетнама. Молодым китайским коммунистам двадцатых не столько нужен был «мир без Китаев и Латвий», сколько «мир, в котором существует сильный Китай с рациональной, могучей и модернизированной экономикой». Этот подход к коммунистической идеологии лучше всего выразил Дэн Сяопин, отец китайской диктатуры развития. Он, как известно, сказал: «Неважно, какого цвета кошка, а важно, как она ловит мышей». Сказал он это давно, в самом начале шестидесятых. А для тех, кто не любит таких метафор, он говорил, цитируя известный марксистский тезис, что «практика – это главный критерий истины». Вот такой прагматический подход.
Поэтому когда в семидесятые этим людям стало окончательно ясно, что – вопреки их первоначальным ожиданиям – старая, сталинско-маоистская, модель не работает, или, точнее, работает плохо, от неё отказались везде (кроме Северной Кореи), причём отказались без особых терзаний. Сначала Китай, позже Вьетнам обнаружили, что они всё заметнее отстают от тех своих соседей, которые изначально сделали капиталистический выбор. При этом не надо думать, что ситуация была совсем уж катастрофическая. В своё время антимаодзедуновская пропаганда в Советском Союзе во многом повлияла на наш образ Китая. В действительности при Мао в Китае существовал заметный экономический рост. Да, были сбросы, был огромный сброс в начале 60-х годов, в период катастрофического «большого скачка», были заметные падения ВВП во время «культурной революции», но в целом это был период роста экономики. Вдобавок, и массовое образование подтянули, и здравоохранение, и ядерное оружие создали. Однако рост этот был недостаточен, особенно если его измерять в душевых показателях. То есть экономика росла, но она росла медленней, чем экономика Тайваня и Южной Кореи. И это осознали в китайском руководстве.
В конце семидесятых, когда смерть Мао Цзе-дуна и удаление его ближайшего окружения расчистили политическую сцену для реформ, китайское руководство начинает эти самые реформы.
Очень часто сейчас в России говорят о необходимости изучать восточноазиатский опыт, часто говорят, что, мол, жаль, что Горбачев не последовал китайскому примеру. Думаю, что по целому ряду причин он последовать этому примеру не мог. Вот одна из причин. Если мы посмотрим на то, как разворачивались реформы в Китае и во Вьетнаме, то увидим, что они начинались с сельского хозяйства, с роспуска народных коммун, таких гиперколхозов («гипер» не в том смысле, что они были большие, а в том, что уровень обобществления и уровень госконтроля там был совершенно немыслимый по меркам валдайской возвышенности). В конце семидесятых, начале восьмидесятых годов вводится система семейного подряда, то есть крестьянским семьям даётся возможность налаживать собственное сельскохозяйственное производство. Фактически к середине восьмидесятых китайские народные коммуны были распущены. Начался стремительный рост сельскохозяйственного производства. В 1980 году в среднем в Китае производилось на душу населения 289 кг зерновых и 4 кг мяса в год. В 1999 году производство зерновых составило 406 кг, производство мяса – 47,5 кг.
Начиналось с аграрных реформ, которые были возможны и потому, что большинство населения составляли крестьяне, и потому, что эти крестьяне провели в народных коммунах всего лишь пару десятилетий и помнили, что такое индивидуальное хозяйство. После этого на протяжении 1980-х годов начинается ползучая приватизация китайской экономики: разрешают создание мелких частных предприятий, потом снимают ограничения на их размеры, потом потихонечку убирают роль государственных цен, причём долго действует система двойных цен на очень многие виды товаров. Есть официальные цены, а есть рыночные цены. Постепенно список товаров, к которым применяются и те, и другие цены, сокращается, и к началу девяностых происходит полный переход на свободное рыночное ценообразование, причем примерно тогда начинаются и эксперименты с акционированием. Эта тенденция продолжается, и сейчас частные предприятия дают, по разным оценкам, от 50% до 75% ВВП Китая.
При этом из соображений сохранения политической стабильности официальная идеология формально сохраняется прежней. Посмотрите на таблицы, вы увидите, как увеличивались с 1990- го года, после начала реформ, ВВП в Китае и Вьетнаме. Сравните это с западноевропейским или общемировым уровнем.
А что «диктатуры развития» первой волны, которые в конце восьмидесятых становятся не диктатурами, а среднеразвитыми государствами с рыночной экономикой и демократической политической системой? У них темпы роста заметно снижаются, но всё равно остаются очень приличными и по общемировым меркам, и по меркам стран похожего уровня экономического развития.
Итак, власть в Китае решает, что в целях сохранения политической стабильности необходимо оставить более или менее неизменным тот старый идеолого-политический антураж, который сформировался в сороковые и пятидесятые. В итоге в Китае мы получаем парадоксальную ситуацию, когда рыночную капиталистическую экономику строят под руководством коммунистической партии, причём коммунистическая партия порою использует идеологические клише в стиле газеты «Правда» 1925 года. С другой стороны, реальная государственная идеология, поскольку она вообще существует, постепенно сдвигается к национализму. Сейчас использование умеренного (по меркам Восточной Азии) государственнического национализма – это важная часть идеологической линии и в Китае, и во Вьетнаме.
Несмотря на формальное использование коммунистических лозунгов, в этих странах, особенно в Китае, мы видим высокий уровень имущественного неравенства. Куда более высокий, чем тот, который существовал некогда на Тайване и в Южной Корее. Например, коэффициент Джини, если его считать по доходам, в Китае составляет 45. Это очень высокий уровень. Для сравнения: если коэффициент Джини ниже 30, это весьма высокий уровень социального равенства, это страны типа Норвегии, Чехословакии. Если от 30 до 40, то это заметное неравенство. Уровень выше 40 – это уже крайнее неравенство, Индонезия или Африка. Так вот в Китае коэффициент Джини сейчас составляет 45, а в Южной Корее во времена «экономического чуда» коэффициент Джини составлял где-то 27-29, сейчас поднялся до 31.
Во многом это относительное равенство было результатом вполне сознательной политики «диктатуры развития» первой волны, потому что их лидеры испытали коммунистическую революцию и отлично понимали, что случилась она вовсе не из-за московских коминтерновских агитаторов. Они отлично понимали, что социальное неравенство взрывоопасно, они его контролировали и ограничивали. А в Китае такого опасения сейчас не наблюдается. В результате мы и имеем очень высокий уровень социального неравенства.
Важно, что страны региона сильно влияли друг на друга. В своей стратегии развития Китай копировал Тайвань и Южную Корею, и делал это сознательно. В конце семидесятых в Пекине проходили многочисленные совещания. На них активно изучались закрытые материалы по тайваньскому и южнокорейскому экономическому опыту, то есть высшее китайское чиновничество очень внимательно читало не предназначенные для широкого распространения, но весьма восторженные сообщения о том, что происходило в это время на Тайване и в Южной Корее. То есть влияние опыта этих стран было однозначно.
Во Вьетнаме ситуация была немножко другая. Вьетнам с середины 1970-х годов имел плохие отношения с Китаем и во многом ориентировался на Советский Союз. Однако с 1985 года в Советском Союзе начались известные перемены. И это, с одной стороны, развязало руки вьетнамским реформаторам, а с другой стороны, во Вьетнаме стали размышлять о том, что же делать, если советская помощь вдруг перестанет поступать в прежнем объёме.
Надо сказать, что в те времена, когда советская помощь поступала в большом объёме, положение Вьетнама оставалось весьма тяжёлым. Вполне официально признается, что в середине восьмидесятых в стране был голод со смертельными исходами. Тут недавно в Ханое я побывал на совершенно замечательной выставке. Называется выставка «Вьетнам во времена карточной системы». А выставка интереснейшая. Потому что там рассказываются совершенно замечательные истории, там показываются пайковые нормы, показывается стол заказов, сандалии «вьетнамки», карточки на запчасти к велосипедам. К одним таким сандалиям полагается рассказ их владельца, следака полицейского. Ему по карточкам полагались сандалии. Ему они нужны не были, но как не взять, когда дают? Он взял, и решил их продать – но как? Партийность и статус не позволяет. Тогда он взял их с собой, когда поехал в командировку из Ханоя в Хюэ (а это довольно далеко, семьсот километров). В Хюэ он сандалии пластиковые продал и на вырученные деньги купил билет на самолёт до Ханоя!
В Китае, кстати, такая выставка была бы невозможна. Вообще говоря, о Вьетнаме можно так сказать: ни разу в жизни не видел такой свободной диктатуры. Вот в Китае ты чувствуешь: там полиции много, в центре Пекина люди в штатском вообще смотрят друг на друга и на небо через каждые десять метров. А вот во Вьетнаме ничего подобного нет. Во Вьетнаме могут нести власть по косточкам в разговоре с иностранцем, которого в первый раз встретили, всё там очень расслабленно. Но это понятно. У вьетнамских властей есть очень мощный идеологический и психологический ресурс, которого нет у властей китайских. Это ресурс национальной гордости. Они же победители! Они ж надавали по морде почти всем великим державам за последнее столетие! И у власти стоят генералы, которые были лейтенантами при Дьеньбьенфу и подполковниками во времена наступления Тэт. Ну, может, уже не у власти, но это, скажем, недавно ушедшие в отставку генералы и министры. То есть люди помнят победы над французами, американцами, китайцами. Поэтому власти могут себе позволить себе проводить в музее такие выставки, совершенно немыслимые в Китае.
Для Вьетнама толчком к реформам послужило не столько влияние Тайваня и Южной Кореи, сколько изменения в Советском Союзе и, что еще более важно, новости из Китая. Потому что к 1985 году стало ясно, что в Китае дело пошло. Вот вы на таблице видите. И, ознакомившись с этими цифрами, вьетнамское руководство решило начать свои реформы, которые очень походили на китайские, с той только разницей, что в чем-то в политической области они были чуть-чуть более свободными, а с другой стороны, они развертывались в экономической области чуть-чуть помедленнее. Например, приватизация промышленности во Вьетнаме (через акционирование) начинается только около 2000 года. Но схема использовалась точно такая, как в у первой волны «диктатур развития»: используя изобильную рабочую силу, сначала создать лёгкую промышленность; потом, используя лёгкую промышленность, создавать технологические производства в тяжелой промышленности, в перспективе двигаться в машиностроение, в электронику и т. д. Вот такую же схему мы видим во Вьетнаме и Китае. С той только разницей, что параллельно с созданием экспортоориентированной лёгкой промышленности они, конечно, проводили аграрные реформы, которые позволили накормить страну.
Можно сказать, что сейчас Китай впервые в своей истории, впервые за три тысячи лет, не знает голода. То же самое относится и к Вьетнаму.
Сейчас мы, конечно, видим, что существует весьма заметная разница между ушедшим вперед Китаем и двинувшимся с примерно десятилетним отставанием за ним Вьетнамом. Китай сейчас во многом находится примерно на том же уровне, на каком находилась Южная Корея где-то около 1975 года. Причем, речь идет не только о формальных цифрах статистики. Статистика – штука полезная, но верить ей абсолютно не следует. Так вот, если посмотреть сейчас на то, что происходит в современном Китае, это Южная Корея примерно 1975-80 годов. То есть, например, начинает развёртываться автомобилестроение, быстро растёт судостроение, но пока китайские автомашины вызывают усмешку у потребителей. Это известно. Но, с другой стороны, точно такую же усмешку в 1980 году вызывали южнокорейские автомобили. И в то же время это период бешеного экономического роста.
Итак, что же в результате произошло? Можно сказать, что Восточная Азия сейчас, за последние 60-70 лет, продемонстрировала самый удачный, а можно сказать, что и единственный удачный пример создания современного индустриального общества за пределами Европы и европейских поселенческих колоний типа США или Австралии (то есть, условно говоря, «филиалов Европы»). Экономическое значение региона растёт. Политическое значение тоже растёт. Уровень жизни растёт. Вот, казалось бы, успех, но на фоне этого успеха, конечно надо помнить, что всё не совсем вот так просто.
Существуют серьёзнейшие проблемы у стран Восточной Азии. Пожалуй, главная из них – это проблема политической модернизации. Дело в том, что «диктатуры развития» первой волны во многом симулировали демократию, скажем так, притворялись либеральными демократиями. Они ими, конечно же, не были. Но они изображали как-бы-выборы, была там как-бы-оппозиция (выборы были фальсифицированы, но они проводились). В результате, когда в середине и конце восьмидесятых ситуация изменилась, когда появились силы, реально требующие политических перемен, провести эти политические перемены оказалось относительно просто. Всего-навсего были проведены выборы без фальсификации. Оппозиции разрешили реально участвовать в выборах. Были уже известные оппозиционные политики, всё прошло достаточно гладко.
Вот и возникает вопрос: а что будет сейчас в Китае и во Вьетнаме? Ну, и Вьетнам далеко немаленькая страна – 90 миллионов человек населения. А вот Китай вообще с населением в 1 миллиард 350 миллионов. Даже куда больше и Тайваня, и любой из Корей. Так что именно их будущее определит судьбу региона.
В Китае существует такая непонятная ситуация. В отличие от диктатур развития первой волны, псевдокоммунистические диктатуры развития второй волны испытывают жесточайший дефицит легитимности. Вообще, любое правительство вынуждено отвечать на один вопрос, который ему постоянно задает народ. Вопрос этот простой: «А по какому праву именно вы правите нами?» То есть нужно постоянно доказывать своё право на управление страной, нужно говорить: «я – законно избранный президент; я – сын неба; я – генеральный секретарь партии, которая знает единственно правильное учение (то самое, что всесильно, потому что верно)». Это легитимность, и когда такая легитимность, признанное народом право власти управлять, существует, то пережить экономический кризис, в общем, можно. Ну да, ну, упал там ВВП, резко выросла безработица, это всё равно не повод устраивать революцию. «Ведь у власти же всенародно избранный президент или же настоящий сын неба, у которого и мандат неба есть. Значит, нам нужно немножко потерпеть, и всё придет в норму». Чаще всего так и происходит.
А вот особенность вот этих двух последних «диктатур развития», Китая и Вьетнама – это то, что они представляют из себя, я бы сказал, велосипед. То есть они политически устойчивы только постольку, поскольку они едут, поскольку удерживается высокий экономический рост. На вопрос «что вы там, у кормила власти, делаете?» нынешнее китайское руководство может ответить только одно (и, кстати, совершенно справедливо): «Мы не знаем, по какому праву мы здесь, у кормила, сидим, но мы тут оказались по историческим причинам, и сейчас у нас тут так всё хорошо получается!» Проблема в том, что современное китайское общество в весь этот декоративный марксизм-ленинизм не верит ни на грош. Но поскольку у власти всё получается невероятно хорошо, стабильность в стране существует.
Я уже говорил о неравенстве, о коэффициенте Джини. В Китае доля городского населения 45%, это 600 млн человек, четыре России или чуть побольше. А кроме того, там есть мигранты – китайские гастарбайтеры, 130 млн человек, они приехали искать работу в Шанхай, в Пекин, в прибрежные города (и в поселки тоже, но чаще – в города). Приехали из бедных деревень. Пока это не является социальной проблемой только по одной причине. Бешеные темпы экономического роста ведут к тому, что уровень жизни растёт у представителей всех социальных слоев. Он растёт по-разному, с разной скоростью, но растёт. Молодой финансист в Шанхае думает, что он будет себе покупать – «Порше» или всё-таки «Ягуар»? А тем временем бедный крестьянин в далёкой провинции осознает, впервые в жизни, что теперь он может позволить себе даже не велосипед с моторчиком, а настоящий мопед. И тот, и другой счастливы. То есть уровень жизни растёт практически у всех, хотя разрыв между слоями тоже возрастает. Но происходит это только, поскольку экономика работает, поскольку китайский велосипед стремительно несется вперед. Если велосипед затормозит (а он пока не тормозит!), то будут большие проблемы политического свойства.
Пока же велосипед несётся вперёд. Несколько дней назад опубликована официальная статистика по состоянию экономики Китая в прошлом году: кризис привел к сокращению экспорта на 13,7%, но при этом рост ВВП составил плюс 8,7%. Короче, китайцы опять вывернулись, как и в 1998-м году, во время азиатского кризиса. Однако проблема в том, что рано или поздно Акела может и промахнуться.
И вот тут-то могут начаться очень серьёзные проблемы, потому что в стране, несмотря на всё происходящее, на все успехи, существуют оппозиционные идеи, несколько оппозиционных идеологических комплексов. Если магия экономического успеха исчезнет, то сторонники этих идеологических пакетов могут заявить: «Мы знаем, как надо, наша идеология описывает ситуацию более адекватно, чем откровенно лицемерный как-бы-марксизм Дэн Сяопина». Кстати, почти всё, что я говорю о Китае, относится и ко Вьетнаму. Несмотря на высокую степень взаимной нелюбви, Вьетнам и Китай очень похожи.
Мы имеем три группы, которые могут бросить политический вызов современной китайской стабильности. Речь идет не об организованных политических группах, хотя и такие тоже есть, а о некоторых идеологических комплексах, которые достаточно широко распространены в стране. Во-первых, это эгалитарные настроения, массовый, народный эгалитаризм. Иногда он проявляется в форме причудливых сект, а иногда даже в форме неомарксизма, который в последнее время превращается в заметную, хотя и всё равно маргинальную силу в стране. Во-вторых, это либерально-демократическое движение. О нём известно лучше всего и больше всего, так как оно ориентируется на западные ценности, понятные западным СМИ, о нём много пишут, пиар ему делают. В-третьих, это национализм.
Сейчас все три группы довольны существующими тенденциями. Народ ворчит на неравенство и коррупцию, иногда напрямую выступает против властей, но в целом доволен ощутимым и непрерывным улучшением материальных условий жизни. Люди, которых беспокоит демократия, которым нужна демократия, могут вспоминать о Тянаньмэнь, но всё равно диктатура в Китае вялая и с каждым годом всё более либеральная, так что очень многое из того, за что могли при Мао просто убить, сейчас сходит с рук. Ну, и сторонники националистических идей (пожалуй, самый влиятельный из этих идейных комплексов) недовольны марксистской фразеологией, псевдо-интернационалистической, но они видят, что Китай, так сказать, «встаёт с колен», активно и агрессивно продавливает собственные державные интересы, и это им нравится. Но всё довольство, повторяю, может существовать только потому, что удается поддерживать высокий темп экономического роста. Так что пока ответа на вопрос, полностью ли преуспела Восточная Азия в модернизации, у нас нет. Хотя успехи впечатляют. Но всё равно будущее региона, будущее его главной страны, Китая, остаётся неопределенным.
Ну и последнее замечание. Часто спрашивают, можно ли приложить опыт Восточной Азии к России. Нет, нельзя. В своём успехе восточноазиатские авторитарные модернизаторы умело использовали специфические черты своих стран, своих обществ. Проблема в том, что таких черт в обществе российском нет вовсе. Во-первых, ставка была сделана на традиционное или полутрадиционное крестьянство, которое на начало рывка составляло примерно три четверти всего населения в этих странах и было при этом бедным, готовым работать буквально за три чашки риса и кусок рыбки в день. Такое крестьянство в России тоже было когда-то, но его давным-давно нет. Во-вторых, важную роль сыграла высокая трудовая культура, способность, получив соответствующее распоряжение, спокойно и систематически «копать от забора и до обеда». Рабочие, которые не просто готовы работать, но и добросовестно по инструкции. Сказано ему завернуть гайку на два с половиной оборота, вот он стоит и завёртывает гайку за гайкой, и каждую более или менее на два с половиной оборота. Где такая рабочая сила в России? По крайней мере, где она в массовом количестве? Я уж не говорю о минимальном доходе, за который человек в России в принципе согласиться работать. Я уж не говорю о коррупционных и прочих запросах чиновничества. В общем, модернизация Восточной Азии – эпизод интересный и поучительный в смысле общего образования, знать о нём надо, но вот скопировать его на просторах восточноевропейской равнины, полагаю, нельзя никак.
Обсуждение лекции
Борис Долгин: По некоторой традиции я начну со своего небольшого замечания и буду давать слово. Не пытаемся ли мы несколько модернизировать сознание политических лидеров Восточной Азии середины 40-х годов, говоря о том, что главной и, в общем, единой для них была проблема модернизации? В частности, для коммунистического движения мы объединяем воедино национально-освободительную составляющую и модернизаторскую. Для меня нет никакого сомнения, что для стран третьего мира главной в коммунизме действительно была именно национально-освободительная нота, и коммунизм там – это националистическое движение. Но откуда вы здесь в 1940-х годах берёте модернизацию? Опирается ли это на какие-то свидетельства того времени?
Андрей Ланьков: Тут существовали серьёзные различия между различными лидерами, тут нужно смотреть по деталям. В том же Китае мы имеем Мао Цзэдуна, который всю свою жизнь был склонен к самым неожиданным загибам. С другой стороны, посмотрим даже на пресловутый «большой скачок» – ведь он же не заставлял всех строить традиционное аграрное общество. Мао заставлял каждый детский сад обзавестись доменной печью, и он четко ставил задачу: «большой скачок позволит нам в результате пяти лет упорного труда достигнуть уровня Великобритании». Под уровнем Великобритании имелось в виду вовсе не производство в этой замечательной стране говядины, а выплавка там стали и изготовление металлорежущих станков. Вообще, специфика этих режимов в том, что они уделяли большое внимание всяким массовым мобилизационным компаниям, ресурсов ведь не было, вознаграждать было нечем, так что оставалось рассчитывать на массовый энтузиазм. Но цель – вполне модернизаторская: сталь, чугун, комбинаты, стремительные паровозы и гигантские аэропланы. Если говорить о Чжоу Эньлае и Дэн Сяопине, как только им чуть-чуть развязывали руки, они начинали совершенно рационалистическую и на удивление цинично-прагматичную политику. Чего хотел и о чём думал Хо Ши Мин, сказать сложно, потому что почти всю свою жизнь он воевал. Однако люди, которые стояли во главе вьетнамского государства вплоть до девяностых, – это даже ещё не лейтенанты, это полковники времен антифранцузского сопротивления. И именно они провели реформы 1986-го и последующих годов. То есть и для них целью было создание современного государства. А современное государство для них – это государство с мощной индустрией, которую тогда, в 1940-е годы, мыслили по примеру Европы начала XX века, то есть сталь, железо, доменные печи, прокатные станы.
Вопрос из зала: Вы закончили лекцию тем, что Китай спокоен в политическом смысле, пока едет, а вот Северная Корея не едет. А почему они спокойны? Почему там не меняется режим?
Андрей Ланьков: Ну, я на эту тему подробно говорил здесь на лекции в 2007 году. Правительство понимает, что там перемены смертельно опасны, и они жёстко подавляют любые перемены стихийные и не допускают возникновения каких-либо неофициальных организаций. Плюс информационная изоляция. Плюс еще один момент: соседи крайне не хотят, что бы там что-то случилось, поэтому стараются не раскачивать лодку.
Игорь Чубайс: Некоторые китайские исследователи пишут: чем больше китаец пребывает на Западе, тем больше он разочарован в западной цивилизации. Поэтому вопрос: вообще вот эта модернизация является абсолютной ценностью, или сама эта проблема становится доступной для людей на Востоке? То есть модернизация – это не идеал и не лучший путь. Это один вопрос, общий. А второй более частный: почему уцелел культ Мао? У нас часто говорят, что китайцы вот такие мудрые, что мы в Сталине разочаровались, развенчали, а вот Мао существует и т. д. На самом деле в Сталине не разочаровались, а у нас нет истории, у нас фальшь, и Сталина развенчал не 20-й съезд, а три восстания в лагерях, которые заставили Хрущева распускать ГУЛАГ. Вот в Китае… ну, это отдельная тема. У меня вопрос к Китаю: можно ли сказать, что культ Мао остался потому, что в Китае КГБ оказалось крепче, и те, кто организовывали наше восстание, сломали хребет сталинизму? Они оказались сильнее, и теперь тех, кто связан с Фалуньгуном, хватают, режут на органы и продают через Интернет.
Андрей Ланьков: По первому вопросу, по модернизации. Я тут вообще не выношу никаких этических оценок. Я не знаю, хороша ли модернизация. Я просто не знаю. Я знаю, что если весь мир достигнет того уровня потребления, который существует сейчас в США, то, скорее всего, наша планета этого не выдержит. Хотя кто же его знает, может, чего-нибудь изобретут, пока будем этого уровня достигать. Вполне может быть. Но в любом случае, я не ставлю никаких этических оценок.
Я вижу лишь одно. Я вижу, что практически все страны, которые преуспевают, которые доминируют не только политически, но и культурно, они все преуспели в модернизации. Может быть, это бег на месте, может, бег вперёд, а может, и вовсе бег к бетонной стене головой вперёд. Но все бегут, и кто не бежит, того считают неудачником, и он сам себя считает неудачником.
Теперь про эти самые разговоры об особом китайском пути и сомнения в модернизации. Эти воззрения выражают иногда люди власти, а чаще – представители этого третьего движения, третьего компонента потенциальной китайской оппозиции, то есть китайские националисты.
Эти люди, националисты, вовсе не хотят отказываться от микрочипов, тайконавтов и новых авианосцев. Они хотят всего этого едва ли не больше, чем правительство. Они просто говорят, что это всё правильно, но вот западная идеология нам не подходит, у нас есть своя, и она, конечно же, лучше. Тут не надо забывать, простите за некоторое обобщение, что большая часть китайцев искренне верит в то, что они являются членами самой древней, самой лучшей, самой совершенной, самой духовной цивилизации мира. Причем верят они в это спокойно, без битья кулаком в грудь, потому, что это их естественное восприятие мироздания, примерно как то, что небо голубое, а солнце регулярно всходит и заходит. Поэтому за этими разговорами о «недопустимости подражания Западу» иногда таится желание изменить политическую систему. В пользу националистов.
Иногда, наоборот, за этими рассуждениями может стоять и нежелание определённых людей в нынешнем руководстве отдавать власть. В таком случае, это аргумент против либерально-демократических настроений. Они говорят, что нам, мол, не нужна эта сомнительная и чуждая нашему народу демократия, когда на судьбы державы начинают влиять всякие адвокатишки, всякие консультации, консенсусы, фракции. Власти, говоря об особом пути, подводят некий теоретический базис под авторитарную модель.
По поводу органов, на которые якобы режут для продажи через Интернет, и всего прочего, знаете, сильно я в этих рассказах сомневаюсь. Фалуньгун – это большие мастера пропаганды, да и организатор этого движения – товарищ такой весьма специфический. Так что, не случайно его китайское правительство боится и вообще опасается, что если эти ребята придут к власти (к счастью для Китая, для нас и для человечества в целом к власти они никогда не придут), это будут ребята, по сравнению с которыми Пол Пот отдыхает.
Теперь насчёт культа Мао. Официально существует такая точка зрения: «70% на 30%». Точка зрения эта была сформулирована Дэном около 1980 года и заключалась она в том, что Мао был на 70% вполне прав, а на 30%, наоборот, не прав. Китайцы вообще любят такие точные определения. Так вот, это был, конечно, компромисс с местными консерваторами, стремление не допускать резкого разрыва, потому что чётко осудить Мао – это означает вопрос: а где мы были? Дэн Сяопин, например, сам же. Это человек примерно того же самого поколения, он помоложе Мао Цзэдуна, но не очень сильно. Он, в принципе, из того же первого поколения революционеров, один из крупных руководителей уже в 1930-е годы. То есть осудить практику Мао – осудить себя. Естественно, они на это не были готовы пойти, естественно, они для себя объясняли эту неготовность желанием сохранить политическую стабильность (этот фактор присутствовал, конечно, но реально это во многом было связано с желанием сохранить власть). Но культа Мао как такового нет. Несмотря ни на что, статуи Мао потихонечку исчезли, только кое-где остались, далеко не во всяком крупном городе. Портрет Мао висит на площади Тянаньмынь, но больше он нигде не висит. И как ни парадоксально, Мао сейчас фигурирует, скорее, в качестве символа народного низового протеста. Вспомните фотографии Сталина на ветровых стеклах машин в Советском Союзе 1970-х годов. Очень похожий момент, плюс иногда еще специфически китайские особенности, где Мао превращается в некое такое обеспечивающее успех местное божество. Мао для очень значительной части китайцев, не элитарных, а наоборот, тех, кому в новой системе не повезло, – это человек, при котором у всех всего было одинаково. При котором богатые люди не ездили в своих “ягуарах” и “порше”. Мао сейчас – один из символов эгалитарного протеста.
Борис Долгин: Тезис о том, что пребывание за границей только укрепляет преданность КНР, был высказан экспертом, приближенным к ЦК КПК совсем рядом, в большом зале Политехнического на конференции, на которой присутствовал и я, и автор вопроса.
Вопрос из зала: Вот у меня вопрос следующего характера: обращает ли китайское руководство внимание на такие вещи, как крупные корпорации в Японии – Мицубиси, Сони, – которые уже создали робота, который может делать то, что делает обычный китаец? В Китае он стоит двадцать тысяч долларов. Вырастить китайца до 18 лет – это, наверное, десять тысяч долларов. В Японии промышленный выпуск этих роботов через 3-4 года будет стоить 15 тысяч долларов, это реальные планы.
Андрей Ланьков: Ну, я думаю, что этого робота можно не бояться, много времени пройдет прежде, чем его сделают достаточно обучаемым. Но действительно есть проблема. Проблема, которая уже сейчас сказывается. Дело в том, что Южная Корея и Тайвань потеряли преимущество своей рабочей силы. Дешёвой рабочей силы там больше нет. Средняя заработная плата в Южной Корее около 2000 долларов. И вот получается такая ситуация, что с одной стороны Южную Корею поджимает Китай и Вьетнам, с дешёвой рабочей силой, а с другой – Япония, с высокими технологиями. Примерно такие же перспективы и у Китая, где рост зарплат начался довольно давно.
Сейчас в Китае всё это отлично понимают. Вдобавок, другая проблема, с рождаемостью. Дело в том, что политика одного ребенка, которая проводилась с конца 70-х годов, привела к тому, что Китай где-то в 2020-е годы станет самым быстро стареющем обществом на Земле. Со временем это будет общество стариков. На четверых бабушек и дедушек будет приходиться 1 внучок или внучка. Понятно почему. Соответственно, дешёвая рабочая сила, которая сделала возможным рывок, на которую была сделана ставка, начинает исчезать. А количество стариков, которые болеют, которых надо лечить, за которыми надо ухаживать, растёт весьма и весьма быстро. Китайцы всё это, конечно, понимают. Они не боятся японских роботов, но они понимают, что вот такая их модель не может существовать вечно. И поэтому в последние годы Китай активно занимается поисками выхода, в первую очередь, – через развитие высокотехнологичных производств.
Вопрос, на который пока нет ответа: а что произойдет раньше? Высохнет ли трудовой резервуар крестьянства? Ударит ли по экономическому росту «политика одного ребёнка»? Или китайцы успеют перевести свою экономику на современные интенсивные рельсы, сбросив значительную часть примитивных низкотехнологических производств в какие-то страны типа Бангладеш. Такое перемещение, кстати, уже началось. Например, есть китайский аутсорсинг в Северной Корее, как ни странно. В Китае зарплата девочки на текстильном производстве составляет 80-90 долларов в месяц, а в Северной Корее у девочки на аналогичном текстильном производстве средняя зарплата составляет 15-20 долларов в месяц. Что произойдёт раньше, мы пока не знаем.
Вопрос из зала: В своё время нам говорили, что Мао Цзэдун выдвинул теорию: пусть два государства, Америка и Россия, борются на высокой горе и внимательно смотрят, подошел ли этот момент. Это первый вопрос. И второй вопрос: могли ли американцы, угнетая нашу страну, возвысить Китай, и как тут сыграла роль экономика, ведь как-то чувствуется, что Китаю помогли с помощью спецслужб? Вы поняли мой вопрос?
Андрей Ланьков: Я понял ваш вопрос, но я не верю в управляемость истории, абсолютно не верю. Слишком уж сложный процесс. Можно разработать гигантский блестящий план, но он полетит вверх тормашками над этим шариком при первом соприкосновении с действительностью.
С другой стороны, сейчас мы имеем действительно интересную ситуацию, связанную с американо-китайскими отношениями. Дело в том, что в отличие от советской и американской экономики во времена Холодной войны, американская и китайская экономики тесно связаны, они зависят друг от друга, очень зависят. В то же время политические интересы, интересы США и Китая как великих держав, США как нынешнего гегемона, а Китая как потенциального гегемона – они, разумеется, противоречат друг другу. В принципе, мы такого ещё не видели. Нечто отдаленно похожее – это Европа времен глобализации начала ХХ века, перед Первой мировой войной, когда страны тоже были связаны экономически, а политические интересы у них конфликтовали. Известно, чем это тогда разрешилось. Но как сейчас сложится, мы пока не знаем. Может, будет конфликт, может, диумвират, а может – так и будут сотрудничать в бизнесе и цапаться при этом в политике.
Вопрос из зала: Вот скажите, пожалуйста, среди университетов мира МГУ находится где-то на 70-ом, 80-ом месте, то есть уровень образования в России низок. Так ли считается на Востоке? И какова была роль американской помощи в регионе?
Андрей Ланьков: Нет, с какой стати? Начну с последнего вопроса. Американская помощь Южной Корее оказывалась, и это сыграло очень большую роль в рывке – хотя как раз тогда, когда рост начался всерьёз, то есть после 1961 г., объёмы американской помощи резко сократились. В Китай никакая помощь не поступает, потому что Китай отчасти воспринимается как потенциальный противник.
По поводу образования. Порядка двух-трех тысяч российских инженеров и инженеров из стран СНГ работают сейчас в Южной Корее. Работают на хороших условиях. Их присутствие там не принято афишировать, потому что корейским СМИ из-за националистических соображений всегда приятно сказать, что это новое техническое чудо разработали наши, корейские ученые. Но, тем не менее, они там присутствуют, их приглашают, им платят большие зарплаты, и, следовательно, их ценят.
Вопрос из зала: Пару месяцев назад от весьма высокопоставленных и информированных экспертов я слышала такие ожидания, такие опасения в отношении Китая, что он может стать следующим пузырем, после американского. Эти опасения сопровождались такими заштриховками, что, например, ну, насколько я могу помнить, ведь статистика 2008 года показывала рост автомобильного производства и реализации автомобилей в Китае и абсолютно не соответствовала росту потребления бензина, что наводит на сомнения.
Андрей Ланьков: Ну, может ли Китай оказаться пузырем? Запросто. В конце восьмидесятых Пол Кеннеди писал свою знаменитую книгу «Взлет и падение мировых держав», где предсказывал, что Япония сейчас всех нас тут разделает под орех. Как раз в это время «японский пузырь» достиг высшей точки, и вскоре, в 1989-90-м году, пузырь этот лопнул со страшной силой, так что Япония до сих пор не оправилась, а о «веке Японии» никто больше не говорит. Так что – всё может быть. Но пока как-то признаков не видно.
Второе – насчет автомобилей. Не могу не поинтересоваться ехидно: а в Китае эти эксперты бывают? Где-то в 2004 году в центральном Пекине улицу можно было легко перейти вне зоны перехода. Сейчас Пекин напоминает то, что творится в Москве, только хуже. Пять кольцевых дорог, до восьми полос в одну сторону, и все равно город в часы пик стоит. Такси не гарантирует скорости – наоборот. Лучший способ опоздать в аэропорт – отправиться туда на такси. К счастью, хоть нормальное метро в Пекине появилось – до этого оно было скорее символическим. В тех местах, где я бываю, количество автомобилей растёт на глазах, стремительно растёт. По статистике в 2009 году Китай впервые превысил США по объему продаж автомобилей на внутреннем рынке. В это как-то верится, когда смотришь на превращение Пекина и Шанхая в города вечных пробок. Такими они стали только что, это превращение произошло у меня на глазах, за последние 4-5 лет. Я вылетал из Пекина 20-го декабря прошлого года, и в газете прочёл, что зарегистрирована четырехмиллионная машина в Пекине. В 2003-м году их было 2 миллиона. Визуально оно так и есть.
Вопрос из зала: Вы ничего не сказали по поводу коррупции в странах Восточной Азии и методах борьбы с ней. На ваш взгляд, существует ли прямая зависимость между коррупцией и ростом?
Андрей Ланьков: Я сейчас скажу что-то ужасно некорректное? Можно?! До определённого уровня коррупция не слишком тормозит рост. Коррупция бывает разных типов. По этому поводу я расскажу вам корейский анекдот.
В 80-е годы в Корее проводится конференция по вопросам развития. Туда приезжает африканская делегация, и корейский министр приглашает их к себе. Африканский министр спрашивает его: «Как вы, господин Ким, на вашу скромную зарплату построили такой особняк?» Он говорит: «Откройте окно. Видите мост?» «Да». «Десять процентов!» Проходят десять лет, господин Ким едет в Африку и оказывается в гостях у того же самого министра, во дворце, как в сказках “1000 и 1 ночи”. Спрашивает: «Как вы построили такой дворец?» Африканский министр: «Откройте окно. Видите мост?» Озадаченный корейский министр: «Нет, я не вижу там никакого моста». Африканский министр: «Именно. 100 процентов!»
Вот мой ответ. То есть коррупция существует, и она велика. Но проблема состоит в том, что чиновник, взявший взятку, обычно исполняет свои обязательства. Кроме того, на низовом уровне коррупции сейчас очень мало (впрочем, когда-то было много). Мне иногда приходится иметь дело с людьми, занимающимся в Корее мелким бизнесом. Они мне говорят в один голос: большие взятки существуют где-то в заоблачной дали, там, где распределяют заказы на супертанкеры и решают вопросы о расположении автомобильных заводов. На уровне нас, скажем, на уровне небольшой сети ресторанов, я никому и ничего не плачу.
Вопрос из зала: Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Вот южновьетнамский режим, у него был шанс стать полноценной диктатурой развития? И если нет, то почему?
Андрей Ланьков: Шанс-то был. Говоря о «диктатурах развития» первой волны, я за недостатком времени не упомянул об одной интересной особенности. Особенность эта видна была и в Корее, и на Тайване. Примерно первые десять лет они раскачивались. Резкий экономический рывок начинается не сразу. Рывок начался примерно после десяти лет раскачки, в ходе которой наблюдалось много националистической риторики, много коррупции, много безалаберности и мало экономического развития. То есть в Южной Корее это происходило при Ли Сын Мане, и только в самом конце его правления появляются какие-то признаки экономического роста. Южный Вьетнам из этой стадии раскачки выйти так и не смог, не успел. Там не сформировалось реально серьёзной власти. На этом фоне важен второй фактор. В тот момент, в 1950-е годы, именно коммунисты в Восточной Азии пользовались наибольшей симпатией населения. На Тайване и в Южной Корее ситуация впоследствии изменилась потому, что начался экономический рост, да и новости, приходящие из другой половины страны, заставили людей изменить мировоззрение на этот счет. В Южном Вьетнаме этого не было. А были там хаос, коррупция и партизанская война, которая поддерживалась и направлялась с Севера, но которая не была бы возможной, если бы внутри Южного Вьетнама у партизан не было серьёзной поддержки. Так вот, все эти факторы оставляли Сайгону мало шансов; под таким давлением запустить экономику было, наверное, сложно или вовсе невозможно. Конечно, если бы Северный Вьетнам с самого начала не повёл линию на объединение страны военной силой, то сайгонский режим мог и уцелеть, выйти из периода раскачки, достигнуть стабильного роста и стать третьей восточноазиатской «диктатурой развития». Но Ханой не мог не повести линию на объединение страны, так как это бы противоречило главным целям этих людей, главным целям северовьетнамского руководства. Людей субъективно, кстати, совсем неплохих.
Вопрос из зала: Меня интересует модернизация, стабилизация и то, что выступает противовесом модернизации. Мне бы хотелось несколько деталей уточнить. То, что мешает модернизации. Может быть, это аграрный характер обществ?
Андрей Ланьков: Значит, тут есть такая интересная особенность. Во всех этих странах, что коммунистических, что антикоммунистических, на рубеже 1940-х и 1950-х годов были проведены радикальные аграрные реформы. То есть старая структура деревни, там, где она существовала, была разбита. В Китае аграрная реформа, кстати, была кровопролитным мероприятием, о чём сейчас уже мало кто помнит. Реформа там сопровождалась массовыми расправами с помещиками и их сторонниками. Просто эти люди не имели возможности рассказать о своих проблемах, поэтому о том, что тогда происходило, известно хуже, чем, скажем, о том, что происходило во время «культурной революции», но масштабы вполне сравнимые. Результат – старая, традиционная сельская община с авторитетом крупного землевладельца, с влиянием местного храма, оказалась в большой степени разрушена. Плюс, в деревне прошли модернизаторские усилия, причем занимались этим и коммунистические, и антикоммунистические режимы. Например, в Южной Корее в семидесятые разворачивалось т.н. «движение за новую деревню» (показательно, что оно так и называлось «движение за новую деревню»). Там подразумевалась, в том числе, и борьба с суевериями, вытеснение традиционной религиозности, замена её более понятными модернистскими религиями, в основном – христианством и современным буддизмом.
Если говорить о китайском среднем классе, то он отчасти похож на современный российский средний класс. Люди наслаждаются потреблением и личной свободой, которую имеют впервые за всю историю страны, в политику не лезут. Изредка (в отличие от среднего российского класса – изредка) ездят за границу. В Южной Корее мы имели другую ситуацию. Дело в том, что в Корее этот средний класс вышел из студенчества, которое в восьмидесятые было чрезвычайно организованным и очень политизированным. То есть вообще до сих пор есть такое выражение: Корея – эта одна из стран, где пока не умерла политика. Не без оснований так говорят, Южная Корея – это одна их самых идеологизированных стран, которые я знаю. То есть идут политические дискуссии весьма острые, и идут они там постоянно. А уж семидесятые-восьмидесятые были временем массовой политизации. В первую очередь было подвержено этому студенчество, которое тогда рекрутировалось частично из крестьянства, а частично из рабочих и среднего класса. Это было время очень высокой корпоративности, плюс мощнейшее рабочее движение. Не стоит забывать тяжелую индустрию, которую создал Пак Чжон Хи – она создала питательную среду для мощнейшего профсоюзного движения. То есть забастовки были гигантские. Достаточно сказать, что в результате забастовочной волны 1988-1990 гг., когда настоящие профсоюзы оттеснили проправительственные, средняя заработная плата в Корее увеличилась почти в 3 раза.
Вопрос из зала: Вопрос о культурной политике. В этом регионе заставляют изучать дзэн-буддизм в школе. Увлечение всем этим Запада началось раньше экономического бума, но за последние 15 лет приняло грандиозные масштабы: цигун, дзэн и все такое. И встречный вопрос: насколько христианство проникает в эти регионы?
Андрей Ланьков: Очень по-разному, начнем с христианства. Южная Корея – христианская страна, протестантская. Формально практикующие протестанты составляют всего 30% населения, но они диспропорционально представлены среди элит. Достаточно сказать в первом корейском кабинете был 21 министр или приравненный к ним чиновник, из них 16 было христиан, хотя на тот момент доля христиан в населении южной части страны была лишь 0.8%. Сейчас христиан в Южной Корее около 30% населения, но, во-первых, в государственных структурах или у силовых ведомств как бы подразумевается, что ты должен быть христианином. Ну, как в России, правильный человек в бюрократии, если тебя не зовут Магомед Рахматуллин (тогда нормально ходить в мечеть), должен ходить или, скажем так, похаживать в православную церковь. Так вот в Южной Корее такое же отношение: если ты бюрократ или силовик, то для твоей карьеры желательно (хотя никто особо не давит) быть протестантом. Кроме того цифра «30% населения» не выражает исключительной политической активности и социальной активности корейских христиан. Кстати, эта доля растёт очень быстро, потому что постоянно они думают, кого бы распропагандировать. Вот у меня очень талантливый, хороший парень аспирант, но он, к сожалению, протестант. Вот он и пытается обратить меня в правильную веру пару раз в месяц. В Китае христианство большого распространения не получило. В Японии, после волны христианизации в XVII веке, христианство было потоплено в крови, и впоследствии, как ни парадоксально, повторить успех XVII века не удалось. При этом для заграничных китайцев, китайцев ЮВА во многих регионах христианство стало национальной религией. В прессе часто сообщается о христианских погромах, то есть о тех погромах, когда «бьют христиан, спасают Индонезию». Реально же бьют там не столько христиан, сколько китайцев, потому что китайцы – это христиане, в отличие от местного населения, которые мусульмане.
Первая часть вопроса, насчёт дзэна и прочего цигуна, откуда пошло это завоевание Запада восточной эзотерикой? Сама по себе интересная тема, может быть, когда-нибудь, кто-нибудь (но не я!) вот сюда придёт и об этом расскажет, но я к такому рассказу никак не готов. Заранее только скажу, что дзэны, цигуны и прочие красоты духовные сейчас куда менее популярны на своей исторической родине, чем считают на Западе.
Вопрос из зала: Второй вопрос: внутренняя культурная политика?
Андрей Ланьков: Ну, давайте так смотреть: в Китае мы имеем нечто вроде советской культурной политики. То есть поддержка высоких форм искусства и достаточно спокойное отношение к жёлтой прессе (постольку, поскольку она не касается политических вопросов). В этом смысле китайский газетный киоск представляет из себя интересное зрелище. Дело в том что «Жэньминь жибао» и прочие официальные издания в нормальном киоске обычно отсутствуют, их там почти не продают. Я поинтересовался, мол, почему «Жэньминь жибао» не продаёте, продавщица улыбнулась шутке иностранца и сказала «А кто ж её брать будет? Неинтересно». То есть в киоске висит всякая желтизна и глянец, всякие аналоги «Жизни» и «Караванов историй». Плюс высокая культура, которая субсидируется государством. Во Вьетнаме – ну, я не знаю. Я вьетнамского не знаю. Впечатление – похоже на Китай, только победнее, ну и в целом страна заметно победнее. В Южной Корее я бы тоже так сказал: поддержка высокого искусства, особенно если оно национальное. Там единственное, что стараются тормозить излишнюю желтизну, в отличие от Китая, где дозволено, но в рамках.
Вопрос из зала: Андрей Николаевич, больше спасибо за лекцию! Вот вы говорили про аутсорсинг в КНДР, хотелось бы услышать поподробнее на эту тему. Можно ли считать КНДР какой-то площадкой Китая?
Андрей Ланьков: Да. Просто она очень маленькая, и работать там не слишком удобно, но иногда нужда заставляет. Значит, первое: по поводу аутсорсинга. Дело в том, что модель, о которой я говорил, модель всемирной фабрики, базируется на очень низкой стоимости рабочей силы. Зарплаты в Китае стали расти. Вот статистика: средний доход горожанина в 2009 году при пересчете на курс доллара составил 2520 в год. В деревне много меньше – там всего лишь 750 долларов (правда, существует огромная разница между регионами). В Северной Корее уровень зарплат где-то в пять-десять раз меньше. Поэтому получается, что китайским фирмам сейчас выгодно ставить там заводики. Ставятся они около границы. Почему? Потому что полное отсутствие асфальта, ужасное состояние дорог, постоянное мелкое взяточничество на таможне и бесчисленных КПП на дорогах –значит, нужно, чтобы было близко от таможни на границе, чтобы вести в Китай было близко. Изготовленный там товар – одежда, кроссовки – идет на мировой рынок, в основном, на Запад, как сделанный в Китае. Кое-что из того, на чём написано Made in China, в действительности сделано в Северной Корее. С точки зрения локальной, пхеньянской, этот аустсорсинг – очень важная вещь. Это важно для Северной Кореи, это важная часть её экономики. Но в общей картине экономики Восточной Азии это всё слишком мало. В конце концов, не надо забывать, что вся Северная Корея по размерам – это небольшая китайская провинция, не более.
Вопрос из зала: Такой вопрос: этот год юбилейный, 60 лет начала Корейской войны. Можно ли в связи с этим ожидать антироссийской риторики в этих празднованиях, и не омрачит ли это наших отношений?
Андрей Ланьков: Думаю, что нет. Никаких признаков тому не видно. В конце концов, все советские материалы о подготовке Корейской войны опубликованы уже лет пятнадцать назад, сейчас начали появляться рассекреченные китайские материалы, и из этих материалов видно, что ответственность СССР там минимальная, что идея нападения была высказана и продавлена Пхеньяном и лично Ким Ир Сеном, что СССР (да и Китай) энтузиазма по поводу этих планов не испытывали. Так что странно будет обвинять СССР. Его и не обвиняют. Правда, я не исключаю, в очень долгосрочной перспективе, особенно если произойдет объединение по германскому сценарию, в лихорадочных попытках найти «козла отпущения» волна может остановиться и на России. Такая вероятность есть. Но и она не очень велика.
Борис Долгин: Пока, как я понимаю, не для чего развивать историческую политику?
Андрей Ланьков: Да. Вот с Китаем всё понятно. А с Россией — нет. Ничего такого не будет.
Вопрос из зала: А вот интернет-цензура в Китае? Если можно, чуть-чуть поподробнее про это. Есть ли она?
Андрей Ланьков: Конечно. Есть сайты, к которым доступ китайским пользователям отключен в принципе. Продвинутые пользователи могут ходить по Proxy, но для этого нужно быть достаточно продвинутым. Идет фильтрация по словам. Скажем, в тех русских интернет-ресурсах, которые работают в Китае, слово «Фалуньгун» употреблять нельзя, оно как нецензурное слово заменяется серией звездочек. Если обнаруживается употребление этого слова в тексте на любом языке, то этот сайт обычно блокируется и заносится в черный список. Любопытно, что в Китае, когда приходишь в интернет-кафе, тебя перед включением компьютера тщательно регистрируют, с предъявлением паспорта. Это делается для того, чтобы рука закона находила нарушителей, если они вздумают распространять крамолу через интернет-кафе. Это все есть, но, с другой стороны, обходить все это довольно легко. В этой огромной «москитной сетке» (как выражаются китайцы) есть столь же огромное количество дыр. Если ты создашь антиправительственный сайт, власти тебя сразу найдут, но если ты, так скажем, дома за рюмочкой маотая с друзьями ругаешь власть, тебя трогать никто не будет.
Вопрос из зала: Скажите, Китай, так же, как и Советский Союз, состоит из ряда автономий. Насколько остры там проблемы? И возможно ли, что Китай постигнет та же участь, что и Советский Союз?
Андрей Ланьков: Проблемы остры, но локальны. Вероятность повторения судьбы СССР мала. Почему? Дело в том, что мы не учитываем численность этих самых проблемных меньшинств. Самое крупное китайское нацменьшинство имеет численность 16 миллионов человек, но большинство людей, здесь присутствующих, уверен, о нём никогда и не слышало. Этот народ называют «чжуан». Проблемных меньшинств несколько – это уйгуры, тибетцы и, может быть, монголы. При этом уйгуров – семь миллионов, тибетцев и монголов – где-то по пять миллионов. В СССР нацменьшинства составляли чуть более половины всего населения, в Китае же ханьцы сейчас – заметно более 90% всего населения. Общая численность всех проблемных групп, которые теоретически могут потребовать независимости, – 2% или около того. Во всех автономных районах, кроме Тибета, этнические китайцы-ханьцы сейчас составляют большинство. Мне очень трудно представить, каким образом пятимиллионная или семимиллионная этническая группа сможет создать серьёзную угрозу целостности страны с населением почти в полтора миллиарда человек, особенно если учесть, что никаких симпатий к сепаратистским (или, если хотите, национально-освободительным) движениям у ханьцев, в том числе, и у ханьской интеллигенции, в том числе, и у интеллигенции оппозиционной, не наблюдаются. Да, могут быть какие-то теракты, взрывы, может быть даже какое-то партизанское движение (в Китае его будут именовать «террористическим», конечно) – это возможно, но серьёзных геополитических последствий, думаю, не будет. Не те пропорции.
Вопрос из зала: Вот еще пару лет назад можно было ощущать недовольство корейцев, находящихся в Москве, относительно Ли Мёнбака. Как вы сейчас оцениваете его позиции? Второй вопрос по Китаю: существует такая возможность, что лет через 40-50 Китай станет самой стареющей нацией, на 4-5 бабушек будет приходится по одному внуку, внучке. Как вы оцениваете перспективы закона об одном ребенке?
Андрей Ланьков: Первое, по поводу Ли Мёнбака. Я лично недоволен тем, чем занимается Ли Мёнбак в отношении Северной Кореи, и считаю, что это ошибочная политика. Она не опасная, она просто ошибочная. Но в целом Ли Мёнбак, которым одно время были сильно недовольны, сейчас опять имеет высокие рейтинги. Причина очевидна – быстрый выход Кореи из кризиса. Ли Мёнбак был избран президентом на лозунге хозяйственного возрождения, он обещал, что будет уделять особое внимание экономике. Обещания он сдержал. Кризис казался опасным год назад, но Корея из него вышла очень быстро.
Теперь про политику одного ребёнка. Если им разрешить рожать больше одного ребёнка, то в среднем на семью будет 2,5 ребёнка от силы, больше китаянки теперь рожать не будут, сознание изменилось, времена настоящей многодетности давно прошли. Но, с точки зрения правительства, это всё равно означает рывок населения, и этот рывок снизит экономический рост на душу населения. А этот рост жизненно важен для сохранения политической стабильности. Правительство находится в задумчивом состоянии: ведь продолжая эту политику, они создают проблему, которая сильно ударит по Китаю через 30-40 лет. Тем не менее, они считают, что сохранение внутриполитической стабильности само по себе настолько важно, что о долгосрочных последствиях политики можно пока забыть.
Вопрос из зала: Можно ли ожидать каких-то националистических авантюр со стороны китайского руководства?
Андрей Ланьков: На свете многое бывает, но, на мой взгляд, это не очень вероятно. Конечно, правительство иногда должно следовать националистической риторике, которую оно само, в общем, не разделяет, хотя иногда и использует. Национальное сознание в Китае раньше существовало в основном среди элит, среди образованых городских слоев, но в последние 10-25 лет национальное сознание пошло вширь и вглубь, в народную гущу. Вообще, Восточная Азия – район, где национализм играет исключительную роль. Именно это, кстати, делает Восточную Азию нестабильным регионом. В Китае мы имеем массы населения, которые сейчас открывают для себя, что они китайцы и что это очень хорошо. С другой стороны, китайское правительство – люди прагматичные. Они сами отчасти боятся националистического ража собственного населения и стараются, по возможности, не только использовать его, но и держать его под контролем. И никакие авантюры в обозримом будущем им не нужны. Да, им нужно экономическое проникновение. Да, заключение соглашений, которые обеспечивают преимущественный доступ к тем или иным месторождениям. Не только на территории России, но и по всему миру. В обозримом будущем – это. А что будет дальше, дальше – «грядущие годы таятся во мгле».
Вопрос из зала: По поводу рождаемости в Китае. Многие дети рождаются незаконно. На мой взгляд, они будут составлять четверть населения тех внуков.
Андрей Ланьков: Нет, четверть не получается. Их ведь считают, по возможности. Считается, что незарегистрированных около 100 миллионов по максимуму, скорее – заметно меньше. Это не четверть населения, это одна десятая максимум. Есть районы, где среди детей младшего возраста (не среди населения в целом!) доля незарегистрированных до 18%, но это – редкость.
http://www.polit.ru/lectures/2010/03/11/lankov.html